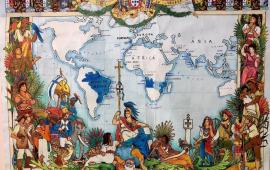После Второй мировой войны между СССР и ФРГ (государство называлось ГФР – Германская Федеральная Республика) – не было никаких связей. В советской прессе о Западной Германии писали, как об агрессивном государстве, где главенствуют бывшие нацисты, жаждущие реванша. Немцы, в свою очередь, считали коммунистическую Россию недругом, мешающим объединению двух германских государств. И вдруг неожиданно для многих прозвучало сообщение о том, что канцлер ГФР Конрад Аденауэр собирается в Москву.
По разным причинам, но только в январе 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией. Выходило, что почти десять лет, с мая 1945-го обе страны не складывали оружия!?
…79-летний федеральный канцлер отправлялся в столицу СССР, преодолевая глубокие сомнения, о которых упомянул в мемуарах: «Если бы я не поехал в Москву, германское общественное мнение сочло бы, что я не воспользовался представившимся шансом, что я не хочу ни мира, ни разрядки напряжённости… Но если бы я поехал в Москву, а переговоры привели бы – что я считал вполне вероятным – ни к каким положительным результатам, то те же критики сказали бы, то если такой реакционер и противник русской системы, как я, ведет переговоры, то никакого успеха и добиться нельзя…»
Встречали Аденауэра, как он отметил, с «большой помпой». Первым официальным лицом, встречавшим Аденауэра у трапа самолета во Внукове, был глава советской делегации, председатель Совета министров Николай Булганин. Между ним и канцлером установились настолько хорошие отношения, что советский представитель назвал Аденауэра «мой друг». Тот обращался к представителю СССР официально: «министр-президент Бульянин» (так звучала фамилия в устах канцлера). Хрущёва, занимавшего пост Первого секретаря ЦК КПСС, немец именовал «геноссе Крушчов».

С Булганиным Аденауэр встречался еще в начале 30-х годов, когда тот в ранге председателя Моссовета приезжал в Кельн. Будущий канцлер был в то время обер-бургомистром этого города. Немец называл русского не только «одарённым коммунальным политиком», но и «приятным парнем».
Аденауэр ожидал увидеть в Кремле злобных коммунистов и был поражен дружелюбием советских лидеров. Представляют интерес словесные портреты, сделанные канцлером: «Хрущёв оказался человеком коренастым, и особо примечательны были его живые глаза… В противоположность Булганину, который с своей клиновидной бородкой, седыми, причесанными на пробор волосами и добродушным выражением лица являл собой совсем другой тип человека, Хрущев вовсе не изображал себя доброго дядюшку и папашу, а с самого начала показал себя тем, кем был на самом деле, –агитатором, пропагандистом, партийным деятелем...»
Между обоими политиками не раз возникали стычки. Канцлер признал, что Германия совершила агрессию против СССР, но напомнил, что при вступлении советских войск на территорию Германии происходили «страшные вещи». Из-за ошибки немецкого переводчика это было переведено как «злодеяния». Это вызвало взрыв ярости Хрущева, который счёл это оскорблением Красной армии. Он выскочил из-за стола и стал грозить немцу кулаками. Но канцлер не растерялся и ответил тем же.
Под горячую руку Аденауэра попал и Вячеслав Молотов. «Кто пожимал Гитлеру руку – вы или я?!» – вскричал канцлер, обращаясь к министру иностранных дел СССР, который в ноябре 1940 года вёл переговоры с фюрером. Это произошло, когда Молотов стал укорять Аденауэра нацистским прошлым Германии. Кстати, сам канцлер был противником Гитлера.
На пике трудных переговоров Аденауэр посетил Большой театр, где давали балет «Ромео и Джульетта». Величественное здание было украшено советскими и германскими флагами, при виде Булганина, Хрущева и Аденауэра, вошедших в ложу, вся публика поднялась и зааплодировала.
Спектакль обернулся не только впечатляющим зрелищем с участием великой Галины Улановой, но и стал символическим актом. Немецкий журналист писал, что «когда балет окончился и главы враждующих семей Капулетти и Монтекки бросились друг другу в объятия, тут и федеральный канцлер Аденауэр поднял обе руки и под шумные овации зрителей пожал обе руки Булганина».
В тот вечер канцлер вернулся в гостиницу, слегка покачиваясь. Как он сказал позднее, «мы выдержали много водки». Но ещё труднее было перенести напряжение переговоров. Даже перед заключительным банкетом обе стороны еще упирались в стену взаимных разногласий. И вдруг рядом со столом, полным кремлевских яств, лёд был сломан. Немецкая делегация согласилась установить с СССР дипломатические отношения, а их советские партнёры дали устное согласие отпустить всех остававшихся в России военнопленных. Основная масса бывших солдат и офицеров вермахта была освобождена в начале 50-х годов.
Аденауэра отговаривали – вдруг эти коварные русские обманут? Но он не хотел уезжать из Москвы с пустыми руками. И поверил Булганину и Хрущёву, как оказалось, не напрасно. «Русские сдержали слово и пунктуально выполнили все соглашения, – вспоминал Аденауэр. – Первые возвращенцы начали поступать в лагерь Фридланд 7 октября 1955 года. Вслед за ними прибыло около десяти тысяч человек».
Вся Германия ликовала, Аденауэр возвращался на родину как триумфатор. Его встречали цветами и возгласами восторга – тысячи немцев встретили своих родных, которых уже не чаяли увидеть. В немецких храмах состоялись торжественные богослужения.
Аденауэр, известный своим настороженным отношением к СССР и до визита в Москву не скрывавший недоверие к его руководителям, совершил историческое деяние: навёл мосты между двумя еще недавно враждующими государствами. Они оказались шаткими, не раз подвергались злым политическим ураганам, но все же устояли.
События в Кремле в сентябре 1955-го показали, что в политике нет безвыходных ситуаций – из любого кризиса можно найти выход. Но только если у партнеров есть политическая воля, стратегическая гибкость и твердое желание довести дело до успешного результата. Советские и западногерманские переговорщики это наглядно продемонстрировали.
Нельзя сказать, что в дальнейшем – при Аденауэре и других канцлерах – отношения СССР и ФРГ пережили взлёт. Над обеими странами висела зловещая тень Второй мировой и в обеих странах вспоминали старые счеты.
Лед отчуждения стал бурно таять только в 90-х годах, после того как президент СССР Михаил Горбачёв оказал неоценимую услугу Гельмуту Колю, согласившись на объединение двух немецких государств. И фактически позволил новой Германии вступить в НАТО.
Коль был последним крупным западноевропейским политиком – «еврозавром», которого сравнивали с такими выдающимися личностями, как Шарль де Голль, Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран.
На одной из фотографий 60-х годов запечатлен Аденауэр, основатель и председатель самой влиятельной партии ФРГ – Христианско-демократического союза. Немного поодаль Коль. Этот снимок символичный: первый канцлер ФРГ стар, ему пора на покой. Однопартиец Аденауэра молод, у него все впереди…
Во времена Коля отношения России и Германии выглядели доверительными и даже дружескими. Москва и Берлин активно сотрудничали в различных областях, в российскую экономику вливались германские инвестиции.
Стоит отметить, что Коль способствовал присоединению Москвы к «восьмерке» – неформальному объединению ведущих держав мира – и призывал западных партнеров к сближению с Россией. Правда, не все прислушивались к его громкому голосу.
Произошло то, о чем мечтал Аденауэр во время визита в Москву: «…при всем своем скепсисе я все же испытывал такое чувство, что в один прекрасный день нам удастся договориться с кремлевскими деятелями относительно решения всех разделяющих нас проблем».
Герхард Шредер в основном продолжил линию Коля, но Ангела Меркель совершила историческую ошибку, свернув с дороги, проторенной ее предшественниками. Сам Коль, уже отошедший от политики, осуждал действия своего протеже, назвав разлад Запада с Россией «радикальным и удручающим».
Увы, по стопам Меркель пошли другие руководители Германии – Олаф Шольц и Фридрих Мерц. Последний вообще превратил Россию во врага и грозил ей, подобно ужасаемому монстру Гитлеру. Слова и действия Мерца грозят окончательно превратить отношения между Россией и Германией в руины.