Насаждая милитаристский психоз, европейская элита надеется удержаться на плаву, потому что всё, на что она оказалась способна в этом году в экономике, европейцев не радует: Еврокомиссия призналась, что не ждёт роста ВВП в 2025 году более 1,1% из-за изменений в торговой политике США. Что безработица так и останется уровне в 5,9%. Что дефицит бюджета опять возрастёт с 3,2% ВВП в прошлом году до 3,3% ВВП в этом и до 3,4% в следующем году. Соотношение госдолга к ВВП в Евросоюзе достигнет 84,5% против 82% в прошлом году. А объём экономики даже у «главного паровоза», Германии, не увеличится. Поэтому вся мощь брюссельской пропаганды и направлена на то, чтобы переложить на «послепобеды над Россией» наслаждение европейского обывателя плодами «сада Барреля», где «всё работает, где наилучшая из когда-либо созданных человеком комбинаций политической свободы, экономического процветания и социального сплочения». И евробюрократии это удаётся вполне.
Очередной опрос общественного мнения вообще оставил за скобками желание мира для европейцев. Оно априори отсутствует, по крайней мере у официального брюссельского Euractiv. Весь вопрос не в необходимости мира, а в том, достаточно ли Европа тратит на войну. И согласно опросу, проведенному для Euractiv компанией Polling Europe, уровень общественной поддержки расходов ЕС на оборону достиг своего пика. В целом 52% жителей Европы убеждены в том, что континент не готов с точки зрения военной мощи к затяжному конфликту. Не надо даже задумываться с кем. Поддержка увеличения расходов на национальную оборону в соответствии с новым целевым показателем НАТО в 5% ВВП и перевооружение Европы стали необходимостью для большинства европейских столиц. Из более чем 5400 респондентов большинство в две трети (67%) высказались за увеличение инвестиций в оборону. Причём «рвутся в бой» в Южной Европе 59% опрошенных, 76% в Центральной и Восточной Европе, где тон задают прибалты, и 73% в Европе Северной. Всего 48% готовящихся к войне в Италии может объяснить только вендеммия, начавшаяся в сентябре. А максимум 86% поляков, днём и ночью ожидающих русские танки на своих восточных границах, не надо и объяснять: две ведущие политические силы в Польше, партии «Гражданская платформа» (ГП) и «Право и справедливость» (ПиС), «соревнуются за звание главного русофоба, стараясь, чтобы их заявления звучали максимально радикально, необдуманно, глупо и инфантильно. При этом оба участника этого безумного соревнования еще и обвиняют друг друга в симпатиях к России», признаётся Myśl Polska. А вспомните, как по случаю учений «Запад-2025» польские власти судорожно закрывали границу с Белоруссией – шаг, свидетельствующий о полной невменяемости этих властей. Даже на «всегда горячих» Балканах, где многие страны находятся в конфликте, границы открыты, и никому не приходят в голову такие самоубийственные и безумные идеи.

Но то – вечно недовольные Балканы. А в самом центре евроцивилизации «в новом бюджете ЕС, который мы только что предложили, мы предусматриваем пятикратное увеличение расходов на оборону. Обсуждается и десятикратное увеличение финансирования военной мобильности, радуется сама и радует подопечную Европу Урсула фон дер Ляйен. На её стратегию «Готовность 2030» (прежде это было «Перевооружение Европы») предусматривается привлечение около 800 миллиардов евро за четыре года. Для сравнения: бюджет ЕС на 2025 год равен 199,7 миллиарда евро. Цифры не смущают? А если к военным расходам добавить ещё согласие Брюсселя приобрести у Штатов энергоносители на 750 миллиардов долларов и инвестировать 600 миллиардов в экономику США? Осилит ли Брюссель эти триллионы?
Попробуем дать ответ вместе с Euractiv. Будет это непросто, поскольку если европолитики теперь говорят так, чтобы на самом деле ничего не сказать, кроме «виновата Россия» (или Путин), то это теперь вчетверо справедливее для стратегов экономики. Чтобы застолбить свою «продвинутость» в этом деле, они создали свою бесконечную карусель бессмысленного евроязыка вроде «мы должны упростить регуляторное бремя для компаний, чтобы повысить нашу конкурентоспособность и укрепить устойчивость нашей экономики – типичная фраза еврокомиссаров. «Эта бессмысленная терминология – особенно по экономическим вопросам – повторяется не только в отдельных выступлениях, в течение нескольких дней или даже месяцев, но и на протяжении многих десятилетий», – отмечает даже Euractiv. Призывы повысить конкурентоспособность ЕС, отмечу мимоходом, делались ещё более тридцати лет назад бывшим главой Еврокомиссии Жаком Делором. Но и тогда, и сейчас это понятие абсолютно бессмысленно с геополитической и экономической точек зрения. Стремление государства, и квазигосударства вроде ЕС, конкурировать на европейском рынке, да и на мировом тоже, противопоказано для достижения максимальной выгоды в обращении товаров и услуг. Как отмечал еще в 1994 году лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, страны, в отличие от компаний, не прекращают свое существование, когда у них заканчиваются, их главный аргумент – деньги. Более того, они почти всегда вступают во взаимовыгодную торговлю со своими предполагаемыми конкурентами, оставляя в стороне политические дрязги. «Правительство, приверженное идеологии конкурентоспособности, – отмечал Кругман, – вряд ли сможет проводить хорошую экономическую политику». И такое правительство ещё менее способно проводить здоровую экономическую политику, когда оно поражено психическим недугом, симптоматику которого вполне можно передать двумя словами: русские идут!
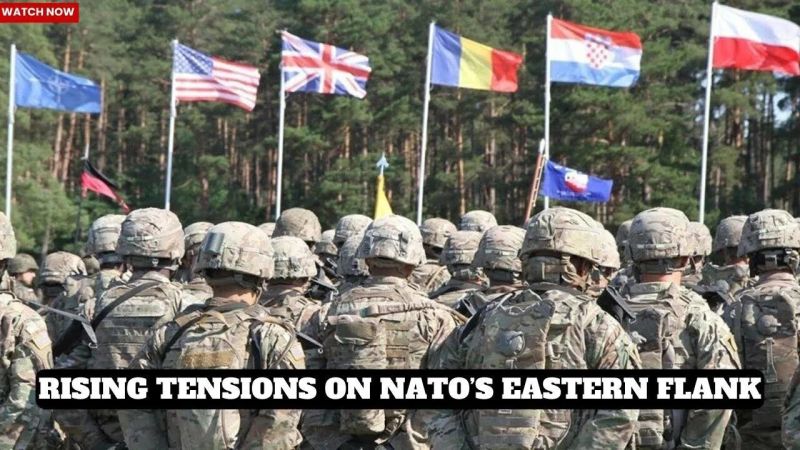
С годами нарастающая критика Еврокомиссии за бюрократическую волокиту в решении экономических проблем родила в Брюсселе ещё один эвфемизм: «упрощение правил ЕС как основной способ повышения конкурентоспособности». Собственно говоря, это само по себе является грубым упрощением, поскольку игнорирует реальные экономические проблемы Европы – высокие цены на энергоносители, замедление спроса на товары ЕС в Китае, хронически слабое внутреннее потребление. Всё гораздо сложнее, чем просто сложность регулирования. Но «дерегулирование», которое требуют «снизу», означало бы ослабление власти «сверху», а этого в Берлемоне боятся не меньше, чем России. Дерегулирование стало политически некошерным в Брюсселе ещё и из-за его связи с финансовым кризисом 2008 года и вполне оправданных опасений профсоюзов, что это дымовая завеса для ограничения прав трудящихся. И несмотря на то что еврочиновники на одном дыхании заявляют, что «упрощение» это «сокращение бюрократической волокиты» (чем и является дерегулирование). «Упрощение – это не дерегулирование, – громогласно заявляет комиссар по экономике Валдис Домбровскис. – Наши экономические, социальные или экологические намерения не изменились».
Аргумент до смешного бессмысленный. Во-первых, это подразумевает, что установление новых целей само по себе означает увеличение нормативного бремени. Что ещё более важно, это игнорирует тот факт, что дерегулирование не цель, а метод. Понятно, что у марионеток в брюссельских креслах их евроязык всегда был абсурдно бессодержательный. Последний тому пример: «Мы видим признаки того, что Россия действительно планирует национализировать и распродать активы, находящиеся в иностранной собственности, – заявил в прошлый четверг официальный представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари. – Это очень ясно показывает одну вещь...: наши санкции очень хорошо работают против России». 19-й пакет санкций в отношении Москвы, ожидают дипломаты ЕС, будет принят в этом месяце.
В последние несколько недель был объявлен целый каскад санкций, инициатив, рамок, программ, стратегий, сделок, часов, щитов и даже стен (в их числе программа жизнестойкости средств массовой информации, глобальная инициатива по жизнестойкости здравоохранения и Европейский центр демократической жизнестойкости)… По большому счёту они являются просто оправданием неспособности Брюсселя что-либо предпринять. И такое бессилие, вероятно, является одной из причин все более агрессивных высказываний официальных лиц ЕС: Урсула в своей речи о положении в Евросоюзе в прошлом месяце 18 раз использовала слово «битва», дюжину раз – «сила» и множество других воинственных выражений вроде «поле битвы» и «линии фронта». И для подобного красноречия есть стратегические причины – постараться отбить «на корню» объективную критику итогов собственного правления. Кто, в конце концов, не хочет, чтобы Европа была конкурентоспособной? А кто хочет, чтобы административно-бюрократическое бремя было более сложным?

Бремя не нравится никому.
Берлемон живёт представлением о мире, состоящем из блоков, вовлеченных в постоянную экономическую конкуренцию друг с другом, и потому основывается на конфронтационной, а теперь и откровенно протекционистской политике. То, что это ведёт к торговым конфликтам, а то и к мировой торговой войне, сегодня доказывать не надо. Поэтому даже в Брюсселе уже накапливается вероятность того, что сама фон дер Ляйен может быть отстранена от должности на следующей неделе. Но следует ясно понимать, что, к сожалению, следующая партия политиков, скорее всего, будет ничуть не лучше, а возможно, и еще хуже. Европейское недогосударство ЕС, предводимое чиновниками, лишёнными ответственности перед своим народом (вспомните Бербок и её слова на встрече министров иностранных дел государств-членов Евросоюза о том, что она будет проводить санкционную политику против России вне зависимости от воли немецких избирателей).
Стратегически – это движение вразнос даже не потому, что у европейских политиков появляется желание «сменить лошадку на переправе», а потому, что блоковое мышление в ЕС как ответную реакцию мира вызывает формирование других блоков, союзов, основанных на «неконкурентности» и взаимосвязи интересов. Прагматика!
Как раз то, что заставляет конвульсировать Европу, в том числе и из-за того, что 52% европейцев не уверены в том, что континент в военном отношении готов к длительному военному конфликту с третьей страной. Что 26% считают, что Европа «немного подготовлена», и почти столько же убеждены, что Европа «совсем не готова».
Стало быть, будут готовиться…







